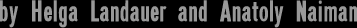Литературный сценарий
1.
Северные элегии.
Первая.
Предки. Мертвые. All Souls.
1870 – 1890 гг.
Петербург, Литейный проспект (стоило бы найти фотографии с еще незастроенной нечетной стороной).
[Тайная строка] 1) И стекла окон так черны, как прорубь, И мнится там такое приключилось, Что лучше не заглядывать. 2) Ореховые рамы у зеркал, Каренинской красою изумленных.
Вторая.
Гамлет – Офелия, меняющиеся ролями, исповедающиеся друг другу.
1910-е.
Херсонес Таврический (Стрелецкая бухта). Царское Село (его парадная сторона)
[Тайная строка] Иль отраженьем в зеркале чужом.
Третья.
Гумилев. Древняя трагедия как залог жизни вообще, ее неизбежных, ее обыденных и ее лучших проявлений: супружество, молодость, дети.
1912 – 1921 гг.
Слепнево, Царское Село (его мещанская часть).
[Тайная строка] Не видеть, что творится в зазеркалье.
Четвертая.
Пунин. Эней.
Начало 1920-х – 1940.
Советский Ленинград: Фонтанный дом (и вообще весь ландшафт предыдущей жизни) как декоративный фасад, за которым разорение (огороды на Марсовом поле), «окровавленный пол» и вся реальность «Реквиема». Перерождение пушкинского Петербурга в достоевский.
[Тайная строка] Мой бывший дом еще следил за мною Прищуренным, неблагосклонным оком, Тем навсегда мне памятным окном.
Пятая.
Ольга. Ева.
1917 – 1966.
Европа, Париж. Отраженные одно в другом стихотворения «Просыпаться на рассвете» и «Это просто, это ясно» с фоном «Когда в тоске самоубийства» (есть старая запись). Постепенное вытеснение образа в «пушистом мехе» образом «черной нищенки» и кадров «веселого Парижа» накануне I и II Мировых войн кадрами июньского 1940 года бегства из города.
[Тайная строка] Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем Измены и еще вчера не бывшей Морщинкой…
Шестая.
Равенство отражению. «Я» как собеседник в противостоянии полноте одиночества.
Неопределенность времени: всегда и никогда.
Неопределенность места: везде и нигде.
[Тайная строка] Исподтишка меняются портреты.
[*] “В юности я говорила, что не могу понять, как люди жили во время войны и террора».
2.
Вступление АН и грубый набросок мизансцены фильма (портрет АА на фоне читающего стихи голоса, скоропись «главных» кадров, составляющих содержание Элегий, – как вместе заявка и оглавление того, что дальше будет разворачиваться и повторяться).
Комарово.
Будка.
Маршрут близкой (до Озерной улицы; до дачи Жирмунского) прогулки.
Прогулка (пешком; велосипедная; проезд на машине) до кладбища и «сквозь» него до Щучьего озера.
Проезд вдоль Финского залива – до «глухих» мест.
Выборг. «Средней силы населенный пункт». Скала в воде.
Подтекст: Финляндия – Скандинавия – Север.
Финляндия – оккупированная (изнасилованная) территория.
Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей-то уют.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
………………………………………….
(И нежно и тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала.
…………………………………………..
И светится месяца тусклый осколок,
Как финский зазубренный нож.)
«Тени белые» – в частности, лыжники-пехотинцы в маскхалатах, самый распространенный образ финской войны 1940 года.
Плюс Хювинккя – туберкулезный санаторий, 1915 год, «Я живу у смерти белой На пороге в тьму».
Скандинавия – культурный топоним символизма (вообще – начала века: “тогдашний властитель дум Кнут Гамсун”, “другой властитель Ибсен”. Отсюда: «Земля хотя и не родная» с перечислением символистских клише – и «Родная земля» (которую «месим и крошим» – «месиво, крошево» Мандельштама) акмеизма.
Север – в пространстве ахматовской поэзии отчетливо противопоставленный враждебным Западу, Востоку и Югу:
Запад клеветал и сам не верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Ухмыляясь из-за бойких строк.
Но стоял, как на коленях, клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
3.
Последовательность расположения всего этого материала будут диктовать две взаимосвязано разворачивающиеся подспудные сюжетообразующие линии.
Первая – опрокидывание «знаков» 1910-х (символизм, санаторий) и 1940-х (захватническая кампания) в 1960-е. Это исподволь подготавливает опрокидывание атмосферы и событий 50-летней давности (Серебряного века) в обстановку круга молодых поэтов (Бобышев, Бродский, Найман, Рейн). Так же как насилие начала II Мировой войны заявляет и представительствует за страдательность ахматовской судьбы в целом. (Дополняемую, «добираемую» дальнейшими метками сюжета.)
Вторая прочерчивается афористическим замечанием Ахматовой: “В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю”.
Вода как постоянно играющая, перемещающаяся и к тому же метафорическая стихия может стать движителем всей этой истории. Не хронология управляет рассказом, а своевольно льющаяся струя. Ахматова возле царскосельской статуи «Девы с разбитым кувшином» (фото начала 1920-х годов) – один из напрашивающихся зачинов. «Я чувствовала смутный страх Пред этой девушкой воспетой». Само начало стихотворения «Уже кленовые листы На пруд слетают лебединый» задает маршрут, которым следует за водой взгляд, не отдавая себе в этом отчета.
Царскосельские пруды.
Тярлевский ручей.
Славянка в Павловске.
Пруд Летнего сада.
Лебяжья канавка.
Фонтанка (места проживания – д. 2, д. 18; Фонтанный дом).
Нева: «широких рек сияющие льды»; река революционных дней; «солнце ниже, и Нева туманней» (времени террора); времени Блокады; потустороннее «устье Леты-Невы».
Охваченный огнем деревянный Исаакиевский мост плывет к устью Невы (11 июля 1916).
Н а в о д н е н и я .
Тучков переулок (д.17, кв. 29; 1914 г.)
Cadran solaire на Меньшиковом доме.
«Как щелочка, чернеет переулок» – Соловьевский.
Финский залив (с островов и из Комарова).
Грузовой порт.
Гавань (больница в Гавани, 1961 г.).
Черное море (Севастополь, Херсонес).
Венеция.
Сена; может быть, Арно.
Свои дороги прокладывает по воде свет.
Полуденная уходящая ввысь золотая «взлетная полоса» южного моря.
(Прокладываемые ветром золотые полотна:
– по тверскому полю овса, ржи;
– по ковылю коротко цветущей азиатской пустыни.)
«Что по Фонтанке золотом Писали фонари».
Похоронная процессия итальянских ночных фонарей.
Лунные дорожки, манящие девочку-сомнамбулу.
4.
Вода Петербурга неотвратимо и органично проносит взгляд по архитектуре города. Той самой, которую Ахматова «любила в молодости», а в старости сменила на музыку.
(Тут настойчиво предлагают себя
а) Михайловская площадь с Филармонией и Малым оперным театром – и «Бродячей собакой», и Русским музеем в Михайловском дворце;
б) Мариинская площадь с Оперным театром, Консерваторией и памятником Глинке: блоковские места, Офицерская улица – «Я пришла к поэту в гости»).
О т р а ж е н и я в в о д е .
Вода повторяет и тем самым словно бы порождает архитектуру. Которая в ахматовском случае начинает все сильней тяготеть к трем основным проявлениям: лестнице, сводам и вокзалу.
Ступени (крутые) ведут в подвал «Бродячей собаки». («Когда спускаюсь с фонарем в подвал, Мне кажется – опять глухой обвал За мной по узкой лестнице грохочет»);
– и под «благословенный свод» воспоминаний «Шестой элегии».
Ступени ведут
– на «башню» Вячеслава Иванова;
– на башню-руину у Орловских ворот в Царском селе (Н. Гумилев);
– на Башню, с которой «из года сорокового» (срединного, переломного) «глядит на всё» автор «Поэмы без героя»;
– (откуда сходит затем «под темные своды» все той же «Собаки»);
– на верхний этаж Арки Генерального Штаба – где судили сына военным судом;
– в Военную Прокуратуру (Невский, 2) – узнать о его судьбе;
– в Palazzo Ursino в Таормине – по смертельной для сердечника высокой крутой лестнице за, по существу, жалким признанием.
Крутые дантовские лестницы бездомности.
Ступени, ведущие на Эйфелеву башню – «мою ржавую и криововатую современницу (1889)», над которой «кружились похожие на этажерки аэропланы».
И, опять прячась за музыку, «Словно там впереди не могила, А таинственной лестницы взлет» – «Бразильская «Бахиана»».
Тюремные своды.
Нева не хочет прорываться к великолепию дворцовой архитектуры, замедляет течение, разливается в ширину возле Крестов, «тюрьмы №1».
На противоположной стороне – «Большой Дом»: НКВД, КГБ. Высокая лестница – по которой Ахматова поднималась в 1957[] г. «закрывать» дела осужденных по 58-й статье.
За углом – Шпалерная улица со знаменитой тюрьмой, где содержался, в частности, Н. С. Гумилев перед расстрелом.
Постепенно в сторону Охты архитекура исчезает, уступая место фабричной бесформенности. Смольный собор – последний петербургский господин, взирающий на торжество промзоны. Сквозь нее проступает зона лагерная.
Quisquis ubique habitat nusquam habitat. Кто живет везде, нигде не живет. Вокзалы – залы ожиданий – дом бездомных.
Финляндский с электричкой на Комарово открывается за Крестами.
Витебский, бывший Царскосельский, с упавшим на ступени его высокой лестницы Иннокентием Анненским – самый часто посещаемый в молодости.
Московский – вокзал последних лет жизни. Его близнец – Ленинградский в Москве.
Варшавский и Балтийский, раз навсегда вышедшие из употребления после того, как раз навсегда вышла из употребления Европа.
Белорусский и Киевский в Москве – Рим в 1964, Лондон в 1965-м.
П о л о с а о т ч у ж д е н и я .
5.
Какой именно город – Ленинград? революционный Петроград? Петербург? – отражался перед Ахматовой в Неве, когда она выходила на ее набережную с Фонтанки?
Или подходила к гранитному парапету от здания Двенадцати Коллегий?
Или спускалась к лодочному причалу у Летнего сада?
у Сенатской площади?
у Академии художеств рядом со сфинксами?
Или – еще проще – к причалу на Фонтанке прямо против Фонтанного дома?
Город, «воспетый первым поэтом»?
Город, который видела Параша Жемчугова, выезжая в лодке по каналу, который выходил в реку как раз в этом месте?
Город, который «умеет Казаться литографией старинной Семидесятых, кажется, годов» с «луной, на четверть скрытой колокольней» церкви Симеона и Анны?
Город, болтающийся «ненужным привеском» возле своих тюрем? «Душной ссылкою енисейской, Пересадкою на Читу, На Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар, Пересылкою в лагерь Свободный, В трупный сумрак прогнивших нар»?
Или тот, где «под аркой на Галерной наши тени навсегда» – «над Невою темноводной, Под улыбкою холодной Императора Петра»?
Какое отражение являлось ей в Лебяжьей канавке? Плац-парадного Марсова поля, где в 1915 году обучали ночью под барабан новобранцев?
Марсова поля – «огорода, уже разрытого, полузаброшенного (1921)», «под тучей вороньих крыл»?
Что она видела на воде пруда в Летнем саду?
Отражение «царственных лип» – или зарослей, «изрезанных зловонными рвами-щелями (1941)»?
Статую «Ночь» «в звездном покрывале, в траурных маках, с бессонной совой» – закапываемую в начале войны; откапываемую после Блокады?
Лебедя, что «как прежде, плывет сквозь века, Любуясь красой своего двойника»?
И самое таинственное!
Что видит она, глядясь в зеркало, на ташкентской фотографии 1942 года? Ахматову «Четок»? Ахматову «Anno Domini MCMXXI»? «Реквиема»? «Поэмы без героя»?
Или ту, что смотрится в зеркало в 1965-м, за своим рабочим столом в Комарове? Ахматову 50-летних юбилеев. Возникающую из облика 50-летней давности, из антуража 1910-х годов. Из облака близких друзей, возлюбленных, поэтов. Гумилева, Мандельштама, Модильяни, Недоброво, Анрепа, Лурье, молодого Пунина, Лозинского, Шилейко.
Но если она видит их, кого вижу я – мельком заглядывающий в то же зеркало, когда прохожу за ее спиной? Их – или нас четверых, молодых Бобышева, Бродского, Наймана, Рейна, порознь и вместе? «Цех поэтов» – или наш кружок конца 1950-х – 1960-х? Там, где перед ней встает лицо Блока, – не лицо ли ее самой отпечатывается в эту минуту в амальгаме, чтобы появляться под моим взглядом в течение следующих 50 лет?
6.
В н а ч а л е б ы л З в у к :
– бормотание набегающих (наползающих, накатывающихся) на песок (камни, гальку) волн Финского залива (вторым планом – Невы на гранитный парапет);
– заплетающийся язык, захлеб, свист листьев (ветвей), стон деревьев под ветром (ветерком, порывом);
– заумная речь, убеждающий бред дождя, ливня по стеклу окна, крыше, крыльцу, дорожке;
– чириканье, птичья трель, рассыпающаяся в простейший каскад звуков;
– рождение интонации в приближающемся и отдаляющемся жужжанье пчелы, жука, комара;
– мгновенная бледная молния вдалеке и «раскат стихающего грома», передающего неразборчивое сообщение;
– бой часов, ход ходиков, повторяющих таблицу умножения, неотменимое правило;
– не то недовольный, не то ласкающий шелест, нашептывание – разворачиваемой, разглаживаемой карты Залива, на которой можно различить и «Комарово» на севере и «Царское село» на юге;
– выбегающие на опушку вакханки (чернофигурная ваза, картина …, «эвоэ – и неги глас»);
– кривая систол/диастол на экране осцилографа;
– звуковая дорожка фильма;
– строчки стихов, ложащиеся на лист бумаги; -
все это доводится до почти механического ритма –
из которого проступает также сначала «механический», «цифровой» нейтральный басовый голос –
через мгновения превращающийся («на наших ушах») в слова «Приморского сонета», читаемого голосом Ахматовой. Это вода, листва, птицы, пчелы и т. д. его наговорили.
На словах «И кажется такой нетрудной, Белея в чаще изумрудной, Дорога не скажу куда» на Озерную улицу (Комарова) выносится большое интерьерное зеркало.
В нем отражается белеющая посреди леса дорога.
Взгляд входит в отражение –
и на словах «Там средь стволов еще светлее, И всё похоже на аллею У царскосельского пруда» -
выходит в аллею Екатерининского парка в Царском селе.
7.
Возможно, опять к статуе девушки с разбитым кувшином.
Возможно, туда, где «смуглый отрок бродил по аллеям», где «иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни».
А если и туда, где «в смертном сне покоится дворец», то затем, чтобы, грянувшись о хрустальный гроб, разбудить спящего.
Потому что «здесь столько лир повешено на ветки».
И «каждая клумба в парке кажется свежей могилой».
(О чем лишний раз напоминает вывешенная на вокзале 1 сентября 1921 года газета с сообщением о расстреле Николая Гумилева.)
Но драматическая, тем более скорбная, нота сейчас преждевременна. Юное существо вступает в жизнь, которая «перед нею стлалась лугом, где некогда гуляла Прозерпина». Этих лугов, лужаек, открытых площадок, на которых ожидаемо и неожиданно возникают статуи античных героев и богов, довольно в Царском селе. «Лунатически ступая», Ахматова может пройти мимо них, не замечая. Она уже во власти поэтической стихи, уже невдалеке – Признание, Любовь, Влюбленность, Слава. Их аллегории также возникают в разных местах царскосельских парков.
Непосредственные впечатления наполняют душу подростка, а затем молодой девушки «земной радостью», весельем, чувством счастья. «И праздников считала не двенадцать, А столько, сколько было дней в году».
«По аллее проводят лошадок, Длинны волны расчесанных грив».
«В тени елизаветинских боскетов Гуляют пушкинских красавиц внучки Все в скромных канотье, в тугих корсетах, И держат зонтик сморщенные ручки».
«С вокзала к парку легкие кареты, Как с похорон торжественных спешат. В них дамы – в сарафанчики одеты».
«От вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали мерно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры (всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами») и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди (и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме»)… «Часть каких-то огромных похорон XIX века»… «Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце – было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным».
«Пологий склон зимы, Ее огни и мраки, и истому, Сухого снега круглые холмы».
«В этом парке не слыхали шума, Лишь ржавый флюгер вдалеке скрипел… Тихо и угрюмо сверкает месяц, снег алмазно бел».
«Хор за обедней так прекрасно пел».
«Зажженных рано фонарей Шары висячие скрежещут, Всё праздничнее, всё светлей Снежинки, пролетая, блещут».
«Сквозь мягко падающий снег Под синей сеткой мчатся кони».
«И раззолоченный гайдук Стоит недвижно за санями, И странно царь глядит вокруг Пустыми светлыми глазами».
Она проходит «среди цветочных киосков и грамофонного треска, под взглядом косым и пьяным газовых фонарей».
Видит «Павловского вокзала раскаленный музыкой купол».
«И водопад белогривый у Баболовского дворца».
Вся эта ткань, такая привычная для царскоселки, что кажется ей обыденной, содержит в себе нечто, что через треть века покажется «маскарадом», «карнавалом», «феерией grand-gala».
Павловск – естественное, неотделимое от Царского села продолжение его.
«Павловск – всегда праздник, потому что надо ехать».
«Самый томный и самый тенистый».
«Круглый луг, неживая вода».
«Как в ворота чугунные въедешь, Тронет сердце блаженная дрожь, Не живешь, а ликуешь и бредишь».
«Поздней осенью свежий и колкий Бродит ветер, безлюдию рад. В белом инее черные елки На подтаявшем снеге стоят».
«И на медном плече Кифареда Красногрудая птичка сидит». Музы, расположившиеся «звездой» вокруг Аполлона-Кифареда. Птичка на плече статуи (в принципе, любой). Не появится ли в кадре акварельная кисточка, которая пометит эту птицу красным? Если да, то она на время может становиться вожатым взгляда, следящего за ее вольными перемещениями.
Она может заманить в Бахчисарай,
– где «за пестрою оградой, У задумчивой воды, Вспоминали мы с отрадой Царскосельские сады»;
– «И орла Екатерины Вдруг узнали – это тот! Он слетел на дно долины С пышных бронзовых ворот».
Отсюда недолог полет вновь до Херсонеса, откуда античность подлинная еще раз перекликнется со статуями Павловска и Царского. <У меня впечатление, что в Крыму остались верстовые столбы – те же, что вели от Петербурга к Царскому селу и которые можно увидеть сегодня, проезжая мимо Пулкова>.
Уже в описании похорон пролетает сквозь праздничность сквознячок тревоги и траурной грусти. Знаки присущего царскосельской красоте наблагополучия исподволь начинают умножаться, постепенно сводя «игрушечный городок» «парков и зал» к Безымянному переулку (где прошло детство Ахматовой: «на этом месте разведен привокзальный парк или сквер»).
Тогда еще «не был мил мне голос человека, но голос ветра был понятен мне».
«Переулок… летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами».
«Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную иву».
«У берега серебряная ива Касается сентябрьских ярких вод».
«И ворвалась серебряная ива Седым великолепием ветвей».
«А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон».
«Тебя опишу я, Как свой Витебск – Шагал».
«Мчался рыжий рысак».
«Тут еще до чугунки Был знатнейший кабак».
«Голубые сугробы С Петербургом вдали».
«Интендантские склады И извозчичий двор».
«Молодая чертовка Там гадает гостям».
«Полосатая будка И махорки струя».
«Пили допоздна водку, Заедали кутьей».
«А на розвальнях правил Великан-кирасир».
Еще не отдавая себе отчета, она «наследует
– Фелицу,
– лебедя,
– мосты
– и все китайские затеи,
– дворца сквозные галереи
– и липы дивной красоты.
– И даже собственную тень,
всю искаженную от страха,
– и покаянную рубаху,
– и замогильную сирень».
8.
Повторяющиеся проезды (кони, кареты, сани), вероятно, тоже могут стать переносчиком зрительского внимания – не как следствие биографии, ее фактов, а в качестве средства движения в кадре, a vehicle.
«Как мне хочеться, чтобы Появиться могли Голубые сугробы С Петербургом вдали».
Альтман
«Как арка в архитектуре… сначала маленькая, потом все больше и больше и наконец – полная свобода (это если выходить)».
Арка Генерального Штаба – «полная свобода». В противовес ее, Арки, узкой внутренней «кафкианской» лестнице, ведущей к дверям военного суда.
Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.
Этот момент преображения привычной действительности – узловой. Изумление от санок, увиденных непохожими на себя, экзотикой. То же, что «И легкости своей дивится тело, И дома своего не узнаешь». Родной язык предстает нетронутым, новым: «Песню ту, что прежде надоела, Как новую, с волнением поешь». (Все хорошие книги, как заметил Пруст, выглядят немного иностранными.) Это соединение: преобразившихся санок и преобразившегося языка – вызывает вспышку, сродную началу химической реакции: начало творчества, рождение стихов.
Оно необъяснимо, можно фиксировать только обстоятельства этой необъяснимости: «Перед весной бывают дни такие: «Перед весной бывают дни такие: Под плотным снегом отдыхает луг, Шумят деревья весело-сухие, И теплый ветер нежен и упруг». Пейзаж Слепнева.
Санки в данном случае – деталь пейзажа городского. Все равно, Петербург это или Царское Село: «Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал… И вот уж о невозвратимом Скрипач безносый заиграл». Это еще одно условие творческого акта: расчистка от уже случившегося, белый лист. В эту белизну врывается поэзия: «И дикой свежестью и силой Мне счастье веяло в лицо».
Миг един, счастье нерасчленимо – приносит его творчество, или реальность, или память: «Как будто друг от века милый Всходил со мною на крыльцо». Пейзаж – универсальный: слепневский, царскосельский.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
[Прояснения и запутывания]
Сейчас я могу думать о той необъяснимой, ни из чего возникшей встрече, что хочу. Например, что дело не сводилось только к тому, что я писал стихи, был молод и хотел услышать мнение безусловного авторитета. Все-таки против этого было то, что она старая. А в глазах молодого человека главное качество старого, что он не знает самых важных насущных вещей. Не был на последней выставке, не видел фильма, не читал книгу. Да просто не разбирается, где пересаживаться в метро и как заказывать по телефону междугороднюю. Это вызывает у молодого насмешку и снисходительность. Кроме того, старый обладает множеством вышедших из употребления знаний и сведений, это требуется выслушивать, не выдавая скуки. Всё вместе уменьшает интерес к высказанному мнению, делает его сколько-то неполноценным.
Но вот что мне пришло в голову. Я пожалуй что с детства, с отрочества-то уж всяко, ощущал, что жизнь это не только то, что происходит вокруг, что видимо. Есть еще что-то внутри самого себя, ясно чувствуемое, но ни к чему конкретно в окружающей повседневности не привязанное. Тех, кто это в себе улавливает, малое меньшинство. Они ходят что называется с головой в облаках. В детстве, в юности выглядит довольно естественным, само собой разумеющимся.
Про это говорят: «поэтическое настроение», или «поэтическое состояние», все равно. Смысл здесь – признание поэзии. И внутренний трепет, и переплетенную с ним веру в надмирную, обладающую нездешним измерением область проще всего называть поэзией. Но с жизнью взрослой, так сказать, нормальной это не сочетается. Ходить ногами по земле, а мыслью витать неизвестно где, пользоваться теми же словами, что все, в тебе одному известных целях – неловко и неуютно. В тот день, когда, уже осознавший себя частью действительности, свою принадлежность поэзии, то есть тому, что больше тебя, принимаешь реальнее, чем принадлежность действительности, когда соглашаешься быть меньшинством в меньшинстве, ты обрекаешь себя на вполне определенное изгойство. В той мере, в какой ты принадлежишь поэзии, ты выродок. Тут во всяком случае интересно, а бывает, и необходимо, узнать, может ли у такого сложиться та жизнь, которая вокруг.
Возможно, это была настоящая причина моей встречи с Ахматовой. Она тяжело ступала по земле, но головой уходила туда, под облака. Она была чудищем – молчаливым, прекрасным, огромным, ведающим тайну, обыденно говорившим необычайное, живым, с ленинградской пропиской и седой челкой.
ТОГДА. СЕЙЧАС. ВСЕГДА.
0. Предыстория, эмблематичные знаки.
Первая и Вторая Северные элегии.
Херсонес: море и античность.
Гнет провинции (Киев? Одесса? мещанская сторона Царского Села?): чеховские барышни, тесный быт, гимназия.
Парадный Петербург.
Пышность – светская и природы – Царского Села.
Фотографии – от младенческих до девических.
1. ТОГДА.
(«Вечер» – «Четки» – «Белая стая».)
Париж, Модильяни.
Третья Северная элегия.
Слепнево – Бежецк. Замужество, рождение сына.
Царское Село. Недоброво. Анреп.
Скандинавия (Хювинккя!).
Петербург. «Бродячая собака». Ольга Судейкина. «Башня» Вячеслава Иванова (мельком). Дом у Тучкова моста, портрет Альтмана. «Эпические мотивы».
Первая Мировая война. Революция.
2. СЕЙЧАС.
(«Подорожник» – «Anno Domini XXI» – «Реквием» – «В сороковом году»)
«Все расхищено, предано, продано…» – «Отчего же нам стало светло?».
Фонтанный дом, Пунин.
Молчание.
Мандельштам.
От Петербурга парадного – к вокзальному, фабричному, тюремному, промзонному, лагерному.
Кресты.
Финская война. «Дома опустелые», отражение леса в «пустых зеркалах озер», «финский зазубренный нож».
Оккупация Парижа, бомбардировки Лондона.
Изобразительный ряд стихотворения «Тень».
3. ВСЕГДА.
(«Поэма без героя»)
Война. Изобразительный ряд цикла «Ветер войны».
Ташкент.
Ленинград в руинах (тоже и как символ).
Триумфальные публичные чтения стихов в 1946 году.
Постановление ЦК 1946 года (ассоциация с номером газеты о расстреле Гумилева – и с видом города, по-прежнему разбитого).
Вывешенные на здании портреты членов Политбюро последнего сталинского года.
Вывешенные на здании портреты членов Политбюро первого хрущевского года. (То и другое, в первую очередь, как антропологический тип, и лишь во вторую, как конец Большого Террора.)
Смещение от топографии Фонтанного дома – Невского проспекта – Летнего сада к топографии Песков: улицы Советские – Красной конницы (с «Башней» Вячелава вдали) – Смольный – Шпалерная.
Комарово – с выходом через зеркало в
Царское Село.
Это было, когда снег шел не так, как сейчас, и вообще был не тем, что сейчас. Когда он шел и лежал и таял одинаково – при псалмопевце Давиде, при Гомере, при Данте, при Пушкине и при Блоке. Потому и поэзия была чем-то иным, чем то, что сейчас называют этим словом. Снег стал тем, от чего очищают целые города, дороги, тротуары. Что сбрасывают с крыш и балконов. Что свозят на огромные свалки. Поэты сейчас управляют снегоуборочной машиной.
Это было, когда мы были молоды. Сияющие глаза, румяные щеки, алые рты, упругий шаг, гибкий голос. Мир, как всегда в молодости, сам был молод, мы были открыты ему. Он захлестывал нас, ему навстречу катился поток наших стихов. Все вокруг и внутри нас было полномерно. Счастье счастливым, красота прекрасной, одиночество непоправимым, трагедия безвыходной, боль великолепной. Еще могли катиться слезы, горячие на скулах, уже холодные на подбородке.
Это было тогда, но это всегда так. Так было за полвека до нас, тогда молодой была Ахматова. Нам она досталась 70-летней. Но мы ей – молодыми. Когда она сказала мне: «Я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер», – помимо прямого наблюдения в этом было еще и указание на то, что она сравнивает. Колю, Осипа, себя – с Димой, Женей, Иосифом, мной. Не сравнивать было бы противоестественно, у нее тогда шли 50-летние юбилеи: замужества, выхода первых книг, объединения в «Цех поэтов». Она вспоминала и одновременно видела нас. Мы были другие, мы уступали им, наверное, по всем статьям. Но для нее это был опять круг молодых поэтов, все их сияние, румянец, легкость, радость и – «зорко видящий глаз». Она входила в середину века – отчасти с нами. Она вспоминала Серебряный век, мы входили в него – отчасти с ней.
Бродский с самого начала и до смерти был «один из нас» в том смысле, в котором Ахматова была «другой», «иной». Вполне допускаю, что причиной такого представления о нем было его появление позднее, после «нас».Он писал лучше всех, прекрасные стихи, незаурядные эссе, сделал больше всех, добился, чего никто другой не добился. Разговор с ним всегда был на градус выше, чем с любым другим, на глаз было видно, насколько он энергетичнее всех. Но он был чемпион, абсолютный, бесспорный – а в ней явственно проявлялось инобытие.
Общее у них было, что то, что от них исходило, стихи ли, суждения, речь, жест, действие, не производилось только умом, памятью, душевным составом, силой духа – во всем этом билась кровь. Этим она отличалась от, например, Лидии Гинзбург, а он от Аверинцева.
Значение стихов, которые были написаны до нас, ждавших, чтобы мы их прочли, витавших в воздухе, которым мы дышали, не ограничивалось действием их красоты, тем более, их политическим, гражданским, поучительным содержанием. Разумеется, в первую очередь, захватывала магия слов, разумеется, боль, диктовавшая их, находила в сердце самый непосредственный отзыв. Но стихи еще и руководили стилем нашей жизни. Не обязательно только тех из нас, кто сам писал, а и целого круга молодежи, всех, кто ощущал в них необходимость, искал их, хотел снова и снова читать, знал наизусть. Стихи Блока, «Кипарисового ларца», «Облака» и «Флейты», «Сестры моей жизни», «Камня» и «Тристий», «Четок» и «Анно Домини», «Европейской ночи», поэм «Горы» и «Конца», помимо эстетического наслаждения и погружения в эпоху и судьбы, задавали образцы душевных реакций и конкретного поведения. «Я прислал тебе черную розу в бокале» означало не только жест поэтический, а и то, как пристало вести себя влюбленным, как пристало вести себя в переполненном зале ресторана, как пристало вести себя. Наши любовные истории, наши молодые романы учитывали поэзию, как кодекс человеческих отношений – подобный сложившемуся в Средние Века.
Отличие нас – нашего поколения и конкретно нас четверых – от Ахматовой, отличие непреодолимое, состояло не в разнице знаний, образования, подхода к жизни и искусству. А в том, что она прожила большую часть жизни и сложилась в эпоху до эпохи «крупных оптовых смертей». Японская война, Цусима была самой большой катастрофой той поры. «И кто-то «Цусима» сказал в телефон». Эта строка должна передавать ужас, обвал прежнего времени, цунами нового. Сражения франко-германской, русско-турецкой, англо-бурской – еще того, патриархального периода истории. Мы же начали сразу со Второй мировой, с Аушвица, с атомной бомбы. Прибавим к этому тоталитарную систему и террор – единственную известную нам практику общественных отношений. Как живется, как беседуется, что читается и как думается в условиях, когда отсчет идет от человеческой жизни, а не идеи, когда люди руководствуются правилами и критериями общежития, не меняющимися радикально в течение столетий, мы не знали.
Ее речи, легкие и ясные, как майский полдень, уводили глубоко под почву, туда, где корни, и разбитая на тысячу струек огромная черная вода, и само царство мертвых.
[Места]
ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ, СТРЕЛЕЦКАЯ БУХТА (возможно, ОДЕССА: общий вид порта «в конце 40-дневной забастовки» 1905 (?) г.)
ЦАРСКОЕ СЕЛО (+ ПАВЛОВСК)
Снег. Снегопад. Метель. Падающий снег.
Пруды. Лебеди.
Любой видовой фильм: чем подробнее, тем лучше.
1900-1910-е годы
Послереволюционные годы.
Развалины 1940-х
В частности: Камеронова галерея. Faux gothique. Могила Анненского. Гостиный двор. Башня-руина у Орловских ворот.
Павловский вокзал: концерт (хроника)
Хроника пышных похорон
Репейники, крапива, лопухи
БЕЖЕЦК
Подъезд по железной дороге
Заболоченная река
Главная улица
Зимний вид города
Дом Львовых-Гумилевых
Если возможно, Слепнево
КОМАРОВО
Будка.
Станция.
Дорога на Щучье озеро. Лес. Щучье озеро
Залив (возможно, до дачи Леонида Андреева).
Кронштадт на горизонте.
Цветущий шиповник; в частности, вдоль залива.
Снег. Снегопад. Метель. Падающий снег. Двор Дома творчества в снегу. Проезд на финских санях.
ВЫБОРГ
Валун в воде.
Общий вид.
Подписание мирного договора с Финляндией
Гамсун. Ибсен. Подумать: возможно, сцена из «Кукольного дома» или «Гедды Габлер» или «Строителя Сольнеса» в норвежской постановке. Иллюстрации к «Пану» и «Виктории» (если нет к «Загадкам и тайнам»), также «скандинавские».
ВОРОНЕЖ
Памятник Петру
Дон
Простор земли вне города
ПЕТЕРБУРГ/ЛЕНИНГРАД
Побольше города или совсем пустого, или с одинокими пешеходами.
Конца 1900-х – начала 1910-х
Если возможно, виды одних и тех же мест парадные (до революции) и разбитые, в запустении (после)
Нева во всех видах, в частности, с фигурками, переходящими по льду (разного времени)
Летний сад, аллеи, пруд, статуи, лебеди; если возможно, в наводнение 1924 г. и покрытый траншеями в 1941 г.
Марсово поле: разные виды, включая плац-парад 1915 г., а также разрытое под огороды в первые годы после революции
Дом братьев Адамини (угол Марсова и Мойки)
Инженерный замок
Фонтанка. Отдельно Фонтанный дом (№ 34, фасад, проход, «4-й» двор) и Фонтанка, 2
Ленинград послевоенный, разбитый, зияющий, но, по возможности, не в мрачном освещении
Смольный (вид с Суворовского и со Шпалерной; возможно, из проезжающего автомобиля); Таврическая; Кавалергардская (Красной Конницы)
Дворцовая площадь с аркой Генерального штаба
Арка на Галерную улицу с Сенатской площади
Соловьевский переулок («как щелочка чернеет переулок»)
Телефонные будки
«Бродячая собака»
Смоленское кладбище («это где-то у стены»: могила Блока)
МОСКВА
Зачатьевский монастырь
Спас-Андрониковский монастырь
Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде
Голая березовая роща осенью (на Рублевском шоссе; если не сохранилась – где угодно в ближайшем Подмосковье)
ТАШКЕНТ
Всё на тему «Константинополь для бедных»
ПАРИЖ
В частности, предутренние обозы со свежими продуктами по пути к Центральному Рынку
Эйфелева башня, ранние снимки или хроника, хорошо бы с летящим над ней самолетом, «похожим на этажерку»
Плакаты Русского Балета
Хроника Русского Балета в Париже
Стиль модерн (графика, живопись, архитектура) – каким могла его видеть АА в молодости. Скажем, иллюстрации Бердсли к «Саломее» Уайльда, «Поля блаженных» Беклина, станции метро («Порт Дофин»)
Цирк начала века; рисунок Модильяни «На трапеции»; фото АА как «женщины-змеи»
Кафе-шантан, Луна-парк
ГЕНУЯ, ПИЗА, ФЛОРЕНЦИЯ, БОЛОНЬЯ, ПАДУЯ, ВЕНЕЦИЯ
Коммедиа делл’Арте
Вообще виды
Вообще живопись
ПОРТРЕТЫ
Живопись и графика: все, какие возможно; обязательно: Альтман, Делла-Вос-Кардовская, Зельманова-Чудовская, далее весь известный иконографический набор
Фотографии: все, какие возможно.
Модильяниевская серия рисунков Ахматовой
Вообще картины Модильяни
Каприччос Гойи
Иллюстрации Ботичелли к Данте
Заставки Гульельмо Джиральди к «Божественной комедии»
Перекличка портретов А. М. Зельмановой-Чудовской: Ахматовой и Мандельштама
Изображения – фотографические и (если имеется) живопись-графика:
Модильяни
Блок
Осип Мандельштам
Николай Гумилев
Н. В. Недоброво
Борис Анреп
Артур Лурье
Сергей Судейкин
Шилейко
Лозинский
Кузмин
Вячеслав Иванов
Федор Сологуб
Натан Альтман
Пунин
В. Г. Гаршин
Зощенко
Булгаков
Пильняк
Замятин
Пастернак
Цветаева
Анна Павлова
Шаляпин
Мейерхольд
Стравинский
Прокофьев
Шостакович
Ольга Глебова-Судейкина
Саломея Андроникова
Вера Стравинская
Офицер русской армии вообще – 1910-х годов: «и шпор твоих легонький звон»
Офицер германской армии вообще, начала ХХ столетия: «я вспоминаю немца-офицера»
МУЗЫКА
Бах; в частности «Чакона»
«Дидона и Эней» Перселла
«Карнавал» Шумана
«Петрушка» (и/или что-то рядом) Стравинского
«Ромео и Джульета» Прокофьева
«Стеркозиный вальс» из балетной сюиты Шостаковича
……………………………………………………………………………………………………………….
70 лет тому назад Осип Мандельштам в воронежской ссылке на вопрос «что такое акмеизм?» ответил: «Тоска по мировой культуре». Эта тоска в человечестве универсальна и непреходяща. История о том, как встретились Ахматова и Модильяни, в какой-то степени утоляет ее. Так же как его картины или ее стихи.
От своей юности и ранней молодости я, как и все, получил первое и лучшее представление о счастье. Но позднее, оглядываясь на то время, я вижу его не как «молитву воскресную», а как до 17 лет – сталинскую сень смертную, потом хрущевскую оттепель, слякоть, размякшую мерзлоту, в которой увязает шаг, потом брежневскую шлако-блочную непроходимость.
Это «норма жизни». В 23 года я встретил 70-летнюю Ахматову. У тех, кто что-то знает о ней, этот звук «Анна Ахматова» включает в мозгу реле, которое, как пятью-пять-двадцатьпять, выдает картинку ее трагической судьбы: «трехсотая с передачею», «муж в могиле, сын в тюрьме». Революция, вышвырнувшая ее из декораций Серебряного века в холод и тьму пустой улицы. Расстрел первого мужа. Голод и нищета. Арест сына и второго мужа. Террор, гибель самых близких людей. Страшная война, страшная блокада Ленинграда. Гражданская смерть после Партийного постановления 1946 года… Но сколь ни внушительно случившееся с ней, судьба не уникальная. Такова «норма жизни». Все мучаются, судьба Ахматовой только сконцентрировала мучения.
С какого-то момента мы не отдаем себе отчет, зачем эту тачку катим. Столкнуть бы ее с откоса – и себя, к ней прикованного.Удерживает привычка – и как будто ожидание чего-то. Как будто надежда, что увидим что-то, что откроет нам, в чем дело. Не объяснит, а каким-то образом даст знать. Как, к примеру, Иисус – не тем, что он Христос из церкви, которая говорит нам, что он значит. А тем, какой он. Какой он небывалый. Сделавший мучения, грязь и черноту своей жизни – ее полнотой, идеалом и сиянием.
Наблюдение царя Давида над отпущенными нам 70-80 годами жизни, что они по большей части труд и болезнь, ибо мы унижены, довольно заурядное, таких полно у Екклезиаста. Но человек, сказавший это, как сумасшедший скакал, плясал и пел вокруг Ковчега завета. Вызывая раздражение и неприязнь наблюдателей, не видевших основания для радости в мире, где царят труд и болезнь… Над жестокой судьбой Ахматовой, надо всем, что мы привыкли выдавать за ее судьбу, стоит сияние другой ее судьбы – во-первых, человека творящего, во-вторых, поэта. «Все расхищено, предано продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано, отчего же нам стало светло?» Эти строчки именно об этом. «Но так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам… Никому, никому не известное, но от века желанное нам». С того дня, как я увидел Ахматову, я читаю эти ее стихи не привязано к ландшафту послереволюционной или какой угодно другой разрухи, но как разгадку механизма мироздания.
В 23 года я встретился с кем-то вроде белого единорога. Несущего, как говорят нам рассказы о нем, гибель любому, кто попадется ему навстречу. Всем, кроме чистой девы, которая одна может его укротить и сделать ручным. Удушаемая смрадом эпохи, испачканная ее кровью Ахматова, если продолжать метафору, была одновременно единорогом и его укротительницей. «Пары себе не имеет, живет 532 года, – говорят про него старинные книги. – А старый зверь без рога бывает не силен, сиротеет и умирает». Такую картину я застал, такой я Ахматову сейчас вижу. Одинокой: не по обстоятельствам, а по природе доставшейся ей личности. Рожденной где-то в Египте, где-то в Индии. С головой оленя, ногами слона, общей формой конь и посреди лба прямой рог в два локтя длины, согласно описанию Плиния. Нагоняющей ужас своей нездешностью, страх – пережитым. Целительной – тем чудодействием, которым обладал рог… Понятно, что это только видение. Но оно сильнее всего, что сохранила память о реальности, которая ее окружала – и конкретные картины которой были сами по себе необыкновенно сильны. Он имел одно виденье, непостижное уму, и глубоко впечатленье в сердце врезалось ему.
Возможно, фильм движется от ИЗУМЛЕНИЯ ПЕРЕД СУЩЕСТВОМ (1960-е) к ИЗУМЛЕНИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ АХМАТОВОЙ, ПЕРЕД МОЛОДОЙ
Смета сметой, а фильм фильмом.
Все это заметки «по пути». Но в последние дни мысли довольно определенно выбирают вот какой ход. Героиней должна стать молодая Ахматова. Скажем, до 33 лет, до Anno Domini XXI включительно, когда погибни она, исчезни, мы бы имели полноценную Ахматову за вычетом полусотни прекрасных стихотворений и Поэмы. (За вычетом, разумеется, и судьбы, но об этом ниже.) То есть «показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице…» должно реализоваться не в «трехсотой с передачею», а в насмешнице, любимице и веселой грешнице – поразительному, если вдуматься, по свободе, чистоте и прелести признанию.
Я все хочу представить себе, чем начнется фильм и чем кончится – на экране. И одновременно – чем начнется и чем кончится история, которую расскажет Найман. Какие-то из неизвестного (и не нуждающегося в том, чтобы стать понятным) источника толчки разворачивают меня так, что выбор этого маршрута: к молодой Ахматовой – переходит у меня чуть ли не в убежденность.
(Собственно говоря, такой взгляд отвечает нашему «детскому» интересу представить себе образ того, кто умер, в потустороннем мире, где «все в своем чине станут, старые и молодые». Гете – возраста Вертера, или Вильгельма Мейстера, или Фауста? Наполеон – Тулона или Святой Елены? Ахматова «Поэмы» – все-таки 1913-го года, а не 1963-го, согласитесь.)
Это вовсе не означает отказа от трагедии, от крови и слез. Наоборот: это эта, трехсотая с передачею, показывает себя царскосельской. Потому что «показать БЫ» той – неосуществимо, зато показать ту этой не только не составляет труда, а неотступно напрашивается. В зеркале, в которое смотрится царскосельская, трехсотую не рассмотреть, зато в том, в которое смотрится трехсотая, только царскосельская и видна.
И здесь главное орудие ахматовской поэзии и вообще миропостижения – зеркало – заявляет о себе и как об орудии фильма. Есть замечательная ташкентская фотография с зеркалом в руках, у меня она с двойной надписью и обе значимы. Есть еще середины 60-х, тоже с зеркальцем (в нем АА просто сверяется с собой перед фотографированием*). В обоих случаях отражения не видно, что дает нам право и возможность увидеть его таким, которое нам нужно. Большое зеркало, поставленное посередине дороги на Щучье озеро (она же на комаровское кладбище – «белея в чаще изумрудной»), отражает аллею у царскосельского пруда, if you understand what I mean. Возможно, следует открыто его установить: привезти – красивое, для гостиной, для спальни, зеркало, поставить (весь этот процесс снимая на пленку) и снимать – входящее в него, включая, например, кадры похорон Ахматовой, и исходящее: в молодость.
С показа такой (особенно 60-х*) фотографии и вглядывания в нее история Наймана может начаться так же органично, как с упомянутой Вами голицинской или с любой из комаровских. История реального присутствия этого невероятного существа в его жизни. И еще более невероятного, ибо оно же («я горькая и старая») – та насмешница в парижской шляпе со страусовым пером и «на шее мелких четок ряд».
Понятно, что фильм не позволит себе злоупотреблять зеркальностью, ее присутствие в неоговоренных случаях будут отмечать про себя лишь те, кто его делает. Когда, скажем, ослепительная Судейкина «отразится» в безымянном опавшем лице из тюремной очереди – как строчка (и, соответственно, картинка) «Реквиема» в «пророчишь, горькая, и руки уронила» или «чем хуже этот век предшествующих?».
Куда приведет экран и куда приведет история, будем вместе всматриваться и обдумывать. Если отправная точка верная, приведут, как миленькие, куда следует. Не хочу сейчас ни напрягать зрение, ни тормошить то, что предлежит. Ведь уже предлежит.
………………………………………………………………………………………………..
О зеркалах (пишу, не сообразуясь с тем, как это может быть показано в фильме)
Реальные.
Овальное – то, что на фото 42-года.
То, что на фото 60-х, маленькое, из сумочки, в которое АА смотрится «для проверки» (то, о котором я писал:снимал Шварцман или Поляков).
Вообще попавшие в кадр с АА (поискать).
Старинное, темное – не в Пушкинском ли доме, или в Фонтанном? Если нет, можно подобрать похожее.
Белый зал в Фонтанном доме – если уже восстановили зеркала. Если нет – любой зеркальный зал (Дом искусств на Невском).
Окна.
Вода.
Пруд Летнего сада.
Царскосельские пруды.
Щучье озеро.
Залив.
Нева.
Сена.
Портреты (включая фотографии)
Картины (та же Дева с единорогом, Эль Греко, иконы – обдумать выбор)
Стихи (обсудим)
Облака (как «Онегина воздушная громада»)